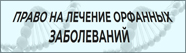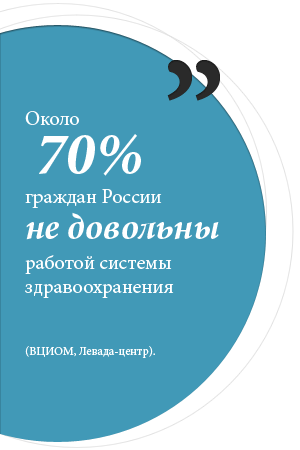
Новости
Директор НМИЦ онкологии объяснил, почему пациенты из регионов не могут получить помощь в федеральных клиниках
Федеральный фонд ОМС и Минздрав решили, что оплачивать лечение пациентов из разных регионов в федеральных клиниках будут напрямую — из средств фонда. Но с деньгами на его оплату что-то не срослось. Появились сообщения о том, что потребуется ждать очереди на лечение, что в регионах ограничивают выдачу направлений на него. Что происходит на самом деле, выяснил «Доктор Питер».
Регионы всегда экономили деньги своих территориальных фондов ОМС: по закону, деньги из него на оплату лечения следуют за пациентом, а значит, местные клиники лишаются их, если пациент направляется в федеральную клинику. Ближайший пример — Петербург: независимо от желания пациента с онкологическим заболеванием лечиться в конкретном учреждении (например, центре им. Гранова или им. Петрова) в поликлиниках направления выдают в свои, городские больницы, чтобы они могли заработать. Если для петербуржцев это не всегда критично, то для жителей других регионов, где нет возможности для эффективного лечения, это может иметь фатальные последствия.
В конце 2020 года приняты изменения в законодательство об ОМС, которые предполагали, что финансирование специализированной помощи в федеральных медицинских центрах из Москвы (Федерального фонда ОМС) все изменит. Потому что регионы, направившие своего пациента, скажем, в московский или петербургский медцентр не будут тратить «свои» деньги.
Но в апреле был принят другой нормативный документ - новый «Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях», который должен регламентировать работу всей онкологической службы в России. Пациентские организации считают, что этот порядок, устанавливающий строгие правила маршрутизации от диагностики до оказания паллиативной помощи в каждом регионе страны, отнимает у пациента право на выбор клиники - лишает их возможности лечиться в федеральных центрах. Он должен вступить в силу с 1 января 2022 года. Но уже сегодня у «федералов» есть проблемы с оказанием медицинской помощи жителям других регионов.
Что происходит и будет происходить на самом деле с оказанием помощи онкологическим пациентам, «Доктор Питер» спросил у Алексея Беляева, д.м.н, главного онколога СЗФО, директора НМИЦ онкологии им. Петрова.
- Алексей Михайлович, новый Порядок еще не вступил в силу, а проблемы с приемом пациентов у федеральных клиник, в том числе онкологических уже есть. Что пошло не так?
- Проблемы, которые возникли с приемом иногородних пациентов сегодня никак не связаны с новым Порядком. Напомню, в 2019 году в стране заработал национальный проект «Здравоохранение», в рамках которого впервые в истории были направлены колоссальные деньги в онкологию, больше всего в одно из ее направлений — химиотерапию. И что мы увидели? Частные клиники, да и государственные, прежде не имеющие никакого отношения к онкологии, получили лицензии на нее и финансирование на лекарственную терапию, потому что она стала выгодным бизнесом. А Терфонды ОМС им не отказывали, потому что у врачей не было понимания на тот момент, когда и какую дорогостоящую терапию следует назначать конкретному пациенту, при каких условиях, врачи не знали, как израсходовать обрушившиеся на них миллиарды. В 2020 году этих миллиардов уже не хватило. Грамотные частники сообразили, на чем можно получать хорошую прибыль, — закупали очень дорогие иммуноонкологические препараты, маржа достигала 50%, а в некоторых регионах доходила до 70%.
Мы посмотрели на средний чек-лист на химиотерапию в 2020 году. У нас он — один, в городских клиниках - другой, а в частных - выше в 3-4 раза. Причем пациентов у них мало, а стоимость терапии самая дорогая. Но проблема не только в том, что там «не жалеют денег» и они быстро заканчиваются. Освоив полученное финансирование, частники перенаправляют своих пациентов в государственные клиники. А там выясняется, что эти люди сразу попали на вторую-третью линию терапии, минуя первую, самую эффективную, она неинтересна частникам с точки зрения получения прибыли - дешевая. Но переводить их на первую уже нельзя. О каком качестве и безопасности лечения можно говорить в такой ситуации?
А в основу Порядков заложены именно безопасность и качество медицинской помощи, они обеспечиваются законодательно — на основе определенных норм и правил требуется ограничить количество участников, отсечь клиники, которые видят в лечении пациентов только прибыль и не соответствует определенным условиям. А они заключаются в том, что любая клиника, оказывающая помощь пациентам с раком, должна предоставлять пациенту ту помощь, что ему необходима. В онкологии это лучевая и химиотерапия, хирургия.
- Но тут уже речь не только о частных клиниках. Государственные тоже получают лицензию на оказание помощи по специальности «онкология», когда могут только оперировать, например.
- Да, частникам операции неинтересны, это дорогой вид помощи, нужны реанимации, дорогое оборудование и расходники. В государственных, наоборот, часто берутся именно за хирургическое лечение. Но есть заболевания, которые надо лечить комплексно, например, сначала лучевая терапия или химиотерапия, потом операция, потом снова химия или лучевая. Например, во всем мире в клинических рекомендациях при раке дистального отдела кишки указана химиолучевая терапия. После нее можно вообще не оперировать, а значит, не подвергать риску тяжелых послеоперационных осложнений. Но у нас таких пациентов «режут» сплошь и рядом: для пациента это трагедия, а клиника всего лишь зарабатывает на нем. Теперь в соответствии с Порядком она должна обеспечить человеку любую помощь, какая ему нужна в соответствии с его состоянием и клиническими рекомендациями. А не действовать, как прежде: кто умеет оперировать — оперировал и подгонял в истории болезни данные так, что кроме операции пациенту будто бы ничего не требовалось.
Или другая проблема: лучевая терапия в больнице есть, коек нет. В такой клинике вынуждены выбирать легких пациентов, а тяжелых направляют в государственные, потому что им требуется госпитализация и уход. Чтобы такого разделение не было, в Порядке появилось требование, по которому лучевая терапия проводится только в тех клиниках, в которых есть стационар.
- До сих пор врачи жаловались, что клинические рекомендации сильно запаздывают.
- Над ними очень активно работали последние два года, сегодня их уже 80. И с 1 января 2022 года все учреждения, в которых оказывается помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, должны будут работать по клиническим рекомендациям. К этому времени должна заработать и система ВИМИС — вертикально-интегрированная медицинская информационная система по онкологии в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ». Эта система видит пациента с момента подозрения на опухоль до оказания ему паллиативной помощи: человек появился в поликлинике, его зарегистрировали и информация о нем ушла в НМИЦ того федерального округа, в котором он живет, и в Москву. А дальше в нее вносятся сроки установления диагноза и начала лечения, технологии, которые применялись в этом процессе и так далее. Эта структура по сути — контролер выполнения клинических рекомендаций. Допустим, пациента направляют в клинику, в которой хорошо делают необходимые ему операции. Его там зарегистрировали, но увидели, что прежде чем резать, надо провести лучевую терапию. Направили в клинику, с которой есть договор на этот вид медпомощи, там провели курс лечения, он вернулся готовый к операции. И все это видно в ВИМИС.
- А кто это на это должен смотреть уже в самой системе и зачем?
- Завести все эти сведения в систему — одно дело, другое — как они будут мониторироваться и анализироваться. Над этим работают соответствующие отделы НМИЦев. Сейчас для контроля они выезжают в регионы и проверяют на месте выполнение маршрутизации и соблюдение лечебных протоколов. Когда система заработает, они всё будут видеть на своих рабочих местах - с помощью цифровых технологий можно будет контролировать.
Мы видим плохие результаты лечения пациентов с герминогенными опухолями, саркомами, когда они приезжают к нам с этими запущенными новообразованиями. Сейчас мы качаем головой: «Как же так?». А с ВИМИС мы увидим, кто принял решение о неэффективном лечении, почему не направили в НМИЦ сразу. Или сделали операцию при герминогенной опухоли, а не назначили сначала химиотерапию, как положено по клиническим рекомендациям.
- Может, это происходит потому что не у всех есть возможность работать в соответствии с рекомендациями: у кого-то нет оборудования, а если оно есть, то нет специалистов, которые могут на нем работать?
- Поэтому Национальный проект предусматривает дооснащение и переоснащение клиник в соответствии с требованиями, обозначенными в Порядках. Регионы получают современное оборудование, занимаются переподготовкой кадров, проводят телемедицинские консультации, чтобы дорасти до уровня НМИЦев. Третий год уже длится подготовка к переходу к работе по клиническим рекомендациям.
- А если не доросли? Порядок выполнять надо, признаться в том, что оказать современную помощь нельзя, и в таком случае пациента будут лечить в регионе как могут?
- Необязательно, они могут либо запросить телемедицинскую консультацию в федеральном центре, либо направить его на лечение в федеральную клинику, в которой есть необходимые технологии лечения. Точнее, не могут, а должны это сделать.
- Если химиотерапию можно проводить в любом месте, то на сложную операцию хорошо бы попасть в федеральный центр. И законодательные изменения, казалось бы, упростили эту процедуру. Но «федералы» говорят, что денег на лечение иногородних нет. Если клиника принимает пациента без направления из региона, велик ли риск, что ФФОМС его не оплатит?
- Да, риск есть. Мы перешли на новый порядок финансирования специализированной помощи и нам в этом году недодали около 50% объемов финансирования: получаем из ФФОМС на оказание специализированной помощи по 50 млн рублей в месяц, а лечим на 80-100 млн. Справляемся запасами лекарств, что закупили в прошлом году. Но пока ни одна федеральная клиника, насколько мне известно, никому не отказывает даже при своих уже отрицательных балансах, все ждут каких-то изменений.
Предполагается, что компенсировать затраты будут во втором полугодии, основываясь на объемах оказанной медицинской помощи 2019 года и затратах на нее в первой половине нынешнего года. Но в 2019 году все лучевое лечение, например, было погружено в программу высоко-технологичной медпомощи (ВМП), которая ограничена квотами. В 2020 году этот вид помощи перешел в разряд специализированной и уже оплачивался системой ОМС, то есть его объемы выросли в соответствии с реальной потребностью. Значит, оно полностью не обеспечено финансами в 2021 году, а это почти половина средств, предназначенных для оказания специализированной медицинской помощи. Пока мы никому не отказываем в лучевой терапии, хотя работаем себе в убыток, но позже, скорее всего, затраты не будут возмещены. В конце апреля вышло постановление правительства о компенсации учреждениям, предполагается, что она будет частичной.
Конечно, все понимают, что мы переживаем трудный переходный период, еще и в условиях, когда система здравоохранения борется с эпидемией коронавируса. Нас призывают выстраивать пациентов, которые обращаются за специализированной помощью, в очередь. Мы пока этого не делаем, но боюсь, что со второго полугодия придется, потому что работать без расходных материалов и лекарств, без оплаты труда медицинских работников невозможно.
- Бывает ли так, что в регионе сейчас дают направление на лечение в федеральную клинику, а там отказывают пациенту?
- Назначение НМИЦев все-таки — лечить редкие, сложные заболевания (герминогенные опухоли, саркомы, меланомы), либо лечить с передовыми, усовершенствованными технологиями, которых в регионах пока нет, - они неподъемно дорогие для них. А если пациент приезжает к нам с колоректальным раком, лечение которого во всей стране давно уже на потоке, или с раком молочной железы, можем отказать - направляем его с нашими рекомендациями на лечение по месту жительства, когда у нас отделения перегружены или есть проблемы с финансированием. Да, до сих пор мы этого не делали — всех принимали и сейчас принимаем, закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ», в котором прописано право выбора медицинского учреждения, никто не отменял. Но в любом случае решение принимает врачебная комиссия.
Надо сказать, что отказы были всегда. Например, когда направляют с патологией, которую не надо уже лечить — нужна паллиативная помощь по месту жительства. Стараемся не брать на дорогую химиотерапию, поскольку не хватает финансирования, но эту же помощь с теми же необходимыми препаратами окажут в региональном медучреждении — денег на нее там больше, чем у нас (точнее, у нас их нет) мы пишем только свои рекомендации.
Вообще, химиотерапия — не высокотехнологичное лечение. Другое дело, если требуется сочетание, скажем, химио- и радиотерапии, либо перед операцией нужна химиотерапия или, наоборот, после сложной операции мы используем ее, потому что боимся, что пациент не вернется на высокотехнологичное лечение: исход зависит от сложной комбинации разных технологий лечения.
Представим ситуацию, в которой в соответствии с новым Порядком создадут идеальные условия в регионах. Кого тогда будете лечить вы?
- Первое. Пока достижение нашего уровня лечения для региональных клиник — далекое будущее.
Второе. У национальных центров изначально есть своя ниша. У нас есть источники финансирования для лечения очень затратных заболеваний, а также редких или осложненных, есть современные диагностические и лечебные технологии, которых не только в Северо-Западном регионе нет, но и во всей России (перфузия легкого, циторедуктивные операции с химиотермической перфузией брюшной полости...). Пациенты, нуждающиеся в них, поедут к нам, потому что невозможно такие редкие операции качественно делать везде. В одном центре надо собирать нуждающихся в них со всей страны: чем чаще выполняется какой-то вид операции, тем выше качество лечения. То есть 30-60 сложных операций одного вида должны делаться одними руками в течение года, чтобы это было качественно и высокопрофессионально. Например, резекция желудка должна быть выполнена хотя бы 2 раза в месяц одним и тем же специалистом. Где поток — там качество.
Третье. Пациент имеет право на выбор места лечения и мы не намерены ему отказывать в нем.
А кроме того, Национальные медицинские центры были созданы Минздравом, чтобы специалисты из этих центров контролировали уровень оказания помощи по всей стране. Значит, в них должны работать не теоретики, а специалисты, которые сами лечат и могут участвовать в организации работы в субъектах РФ.
Ирина Багликова
источник : https://doctorpiter.ru