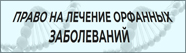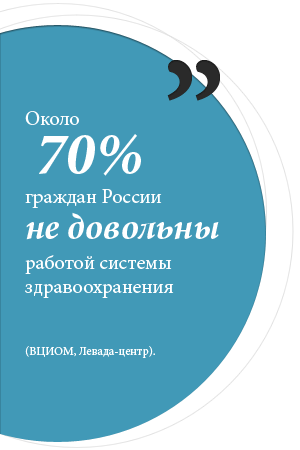
Новости
Педиатра признали виновной в смерти ребенка в Хабаровске Читайте на WWW.HAB.KP.RU: https://www.hab.kp.ru/daily/27665/5053567/
«КП» - Хабаровск» продолжает рассказывать о громких историях прошлых лет, которые не забылись даже спустя полтора десятка лет. На этот раз вернемся в 2009 год. Тогда в марте суд Кировского района Хабаровска признал вину участкового врача-педиатра детской городской больницы № 2 Альбины Андреевой в смерти ребенка. На тот момент разбирательства шли уже четыре года.
Трагедия произошла в сентябре 2004 года. Игорь Сачок, которому на тот момент был один год и восемь месяцев, заболел в пятницу. Закапризничал, появилась небольшая температура. За несколько дней до этого у него прорезался очередной зуб, а этот процесс, как известно, почти у всех детей вызывает общее недомогание. Поэтому бить тревогу родители - Олеся и Константин - не стали. К исходу выходных ребенок пришел в норму, и в понедельник его отвели в детский сад. Туда его, к слову, приняли всего два месяца назад в виде исключения. По правилам, посещать детский сад можно только с двух лет. Игоря взяли, потому что, несмотря на свой возраст, он был самостоятельным мальчиком. Веселый, общительный крепыш, не ребенок, а золото - так будут потом вспоминать о нем воспитатели.
Скачок температуры у ребенка повторился почти через неделю. 9 сентября в саду воспитательница заметила, что он стал вялым. Медсестра осмотрела ребенка и приняла решение, что его нужно отправить домой. «Зубная», как считали родители, температура продержалась до обеда 11 сентября, но к вечеру нормализовалась, и мальчика повели на прогулку во двор.
На следующий день градусник показал 39 градусов. Скорая помощь диагностировала ОРВИ и предложила госпитализацию. Олеся и Константин отказались. Как потом они поясняли на следствии и в суде, вызвано это было рассказом доктора о том, что на самом деле детская инфекционная больница, куда они намеревались доставить Игоря, якобы переполнена. Настолько, что детишки лежат в коридоре. О том, что мальчика примут в стационар вместе с мамой, врачи скорой высказали большие сомнения.
На следующий день вызвали участкового педиатра из детской городской больницы № 2. Альбина Андреева осмотрела Игоря, проверила горло, пощупала живот, измерила температуру, которая на тот момент была 37,7 градуса. Подтвердила диагноз, поставленный накануне врачами скорой. Как уверяла в ходе следствия и на суде Альбина Васильевна, она предложила родителям ребенка госпитализировать его в стационар. По ее словам, Олеся и Константин отказались.
Родители Игоря, напротив, настаивали на том, что педиатр даже не заикалась о необходимости стационарного лечения. Она якобы сказала, что никаких серьезных симптомов не наблюдает, посоветовала давать ребенку больше теплого питья. Как было не поверить врачу, за плечами которого 35 лет медицинского стажа?
Как в такой ситуации, когда не было никаких свидетелей, узнать, кто из двух сторон говорит правду? Оказывается, для таких случаев правилами оказания медицинской помощи предусмотрен ряд мер, благодаря которым врач может подстраховаться.
Если он не может убедить родителей, что ребенка нужно отправить в стационар, он должен, во-первых, сделать об этом запись в медицинской карточке. Во-вторых, составить документ об отказе от госпитализации, который родные ребенка должны подписать. В-третьих, в случае необходимости организовать стационар на дому, то есть вызвать врачей из больницы, лаборантов, которые бы сделали анализы, и так далее.
Никаких подтверждений того, что врач предвидела опасность и настаивала на госпитализации, в суде представлено не было. После трагедии на одной чаше весов правосудия оказались устные заверения доктора. На другой - подробности трагедии, показания несчастных родителей и врачей стационара, которые уверяют, что, если бы мальчик попал к ним хотя бы на два-три часа раньше, его можно было спасти. Что перевесит?
Спустя примерно два часа после ухода Андреевой Константин стал менять Игорю рубашку и обратил внимание на опухоль в районе локтевого сустава. Вызвали скорую. Мальчика доставили в детскую краевую клиническую больницу. Там поставили диагноз - острый остеомиелит. Очень быстро наступил септический шок. Мальчик умер.
МИЛОСЕРДИЕМ ПРОТИВ КРУГОВОЙ ПОРУКИ
Спустя месяц после трагедии Олеся и Константин Сачок приняли решение обратиться в прокуратуру с заявлением в отношении Андреевой, из-за некомпетентности которой, как они считали, с их ребенком случилось несчастье. Путь за справедливостью оказался длиною в четыре года. Самым трудным препятствием на этой непростой дороге была медицинская корпоративность.
С первых дней врачи поликлиники и чиновники здравоохранения чинили всяческие препятствия. В частности, наотрез отказывались вернуть родным погибшего ребенка его медицинскую карточку. И это стало такой проблемой, что семья Сачок вынуждена была просить помощи у СМИ. Журналисты провели расследование, и тогда резонанс превзошел все ожидания.
- К нам в поликлинике было такое отношение, как будто мы совершили преступление, - вспоминает Олеся. - Никогда не забуду, когда кто-то из врачей кинул мне в лицо фразу о том, что я зря так убиваюсь. Мол, молодая еще, другого себе рожу.
Если бы врачи нашли в себе силы достойно, по-человечески поговорить с молодыми родителями, на чьи плечи свалилось страшное горе, кто знает, как бы в итоге сложилась эта судебная история...
Но в этой трагедии как будто перевернулось все с ног на голову. Те, кто, казалось бы, по долгу службы призваны быть милосердными, превратились в жестоких прагматиков. Истинное сочувствие и помощь пришли со стороны посторонних, не имеющих к этой истории никакого отношения.
- Олеся обратилась в нашу коллегию адвокатов «Юнона» за помощью, - вспоминал адвокат Дмитрий Кобзарь. - С самого начала было понятно, что без квалифицированной юридической поддержки родители погибшего ребенка ничего не добьются. Да и правоохранительные органы «отнекивались» от этого дела всеми возможными способами. Оплатить услуги адвоката семья была не в состоянии, и мы в виде исключения предложили им помощь на приемлемых для них условиях.
Их интересы в суде представляла бывший прокурорский работник Галина Пысина. Галина Александровна узнала об этом деле от своих знакомых и предложила безвозмездную помощь, ходила на все судебные заседания. Благодаря ее компетенции удалось добиться проведения независимой медицинской экспертизы.
Вообще, медицинских экспертиз было три. Первая проводилась в Хабаровске и вины педиатра не подтвердила. Вторая проводилась в Приморье и закончилась аналогично.
В третий раз экспертизу проводили в Москве. Ее выводы и легли в основу обвинительного заключения и приговора суда. На основании данных медицинской карточки ребенка, данных патологоанатомического заключения московские независимые эксперты сделали вывод, что симптомы тяжкого заболевания на момент осмотра его педиатром были такими явными, что спутать их с проявлениями ОРВИ было невозможно.
Суд признал Альбину Андрееву виновной в причинении смерти по неосторожности. Приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с лишением права заниматься врачебной деятельностью. В качестве морального вреда педиатр должна была выплатить родителям ребенка 40 тысяч рублей. Несмотря на кажущуюся мягкость наказания, этот приговор на тот момент считался одним из самых суровых «медицинских» вердиктов в Хабаровском крае. До этого врачам, по чьей вине пострадали или погибли люди, удавалось отделаться, что называется, легким испугом.
Например, за несколько лет до описываемых событий из-за некомпетентности врача погибла четырехлетняя девочка. Был суд. Вину медика признали и приговорили его к восьми годам лишения свободы условно... не лишив его возможности заниматься медицинской практикой. Насколько известно, в 2009 году врач продолжал работать в той же больнице.
Подобные ситуации «Комсомолка» попросила прокомментировать профессора, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой детских инфекционных болезней, ректора ДВГМУ Владимира Молочного.
- Мне непонятна формулировка обвинения педиатра - «Причинение смерти, непредумышленное убийство». Смерть ребенка наступила из-за болезни. Причем настолько редкой и сложной в диагностике, особенно в течение первых 3-5 дней ее развития, что даже я не уверен, что смог бы ее распознать в амбулаторных условиях. Стационар на то и существует, чтобы проводить комплексное обследование, всестороннюю диагностику и качественное лечение.
У участкового врача, врача скорой медицинской помощи нет этих диагностических возможностей. В неясных случаях они рекомендуют госпитализацию, что является вполне достаточным уровнем компетентности этих специалистов. Кстати, хочу подчеркнуть, что оказание амбулаторной помощи врачами является огромным российским достижением, к которому надо относиться бережно и предельно уважительно всем гражданам нашей страны. Нигде в мире врачи не ходят к пациентам бесплатно домой, как у нас, и, к сожалению, нигде в мире к этим специалистам не относятся так пренебрежительно, как у нас.
Сегодня родители детей отказываются от лечения в стационаре очень часто. И это уже превратилось в настоящую проблему. Доходит до того, что для того, чтобы отправить ребенка в больницу, врачам приходится иногда вызывать полицию. При этом практически никто из родственников детей не желает давать письменную расписку об отказе от госпитализации, избегая ответственности за последствия.
В правилах оказания медицинской помощи предусмотрена организация стационара на дому. Но нужно реально смотреть на вещи. Для этого как минимум нужно оторвать от работы в больнице врачей, лаборантов, обеспечить их транспортом и всем необходимым. Все это непросто и может занять много времени. А главное, в трудных случаях диагностики это абсолютно бесполезно и вредно.
Родители, отказываясь от лечения в стационаре, берут на себя огромную ответственность, которую не очень хорошо понимают. Чтобы исключить повторения таких историй, настоятельно прошу людей прислушиваться к мнению врачей, не забывать, что именно болезни являются потенциальными убийцами, и то, что только с помощью совместных усилий возможно предотвращение неблагоприятного исхода, особенно трагичного у детей.
Александра Явищенко
источник : https://www.hab.kp.ru