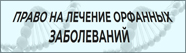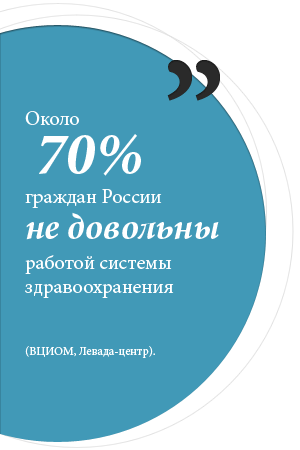
Новости
Фельдшеры станут терапевтами, а молодые врачи-отказники могут лишиться аккредитации
Минздрав России опубликовал приказ, по которому с 1 сентября фельдшеры имеют право брать на себя функции терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов, если этих специалистов нет в медучреждении. Но врачей все равно не хватает. Взоры чиновников обращены на выпускников бюджетных отделений медвузов.
«Фельдшеризация» всей страны
Новый приказ Минздрава, по сути, узаконил то, как живет страна с начала реформы здравоохранения 2014–2015 годов. Вместо больницы — ФАП, вместо врача — фельдшер. За десять лет врачебная медицина окончательно ушла в города, оставив жителей деревень и поселков в XIX веке. Так описывал ФАПы в начале реформы профессор, председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев:
— ФАПы появились в XIX веке. Это технология XIX века, а мы с вами в XXI. И мы все время пытаемся развивать эту технологию и дальше. Но она умерла уже вместе с теми деревнями и селами, которые были.
По всей стране в 2018 году насчитывалось 35 тысяч фельдшерских пунктов. По заявлениям чиновников, их число выросло на 6,5 тысячи. В некоторых населенных пунктах врачей в ФАПах если и видели, то редко. Поэтому фельдшеры уже давно взяли на себя обязанность лечить граждан.
— У нас фельдшерские пункты есть в довольно большом количестве регионов. В Башкирии, Татарстане больше четырех тысяч. В каких-то регионах их меньше. Ситуация очень разная в разных субъектах. Скорее всего, речь может идти о дальневосточных регионах, юге Сибири, там, где сложные климатические и географические условия. Там, конечно, необходимо увеличивать присутствие врачебного персонала. И бедные регионы, из которых высасывают врачебный персонал в мегаполисы, — описывает ситуацию директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
Фельдшеры замещают врачей не только в амбулаторных пунктах, но и на станциях скорой помощи. Количество врачебных бригад сокращается ежегодно. В 2022 году их число уменьшилось с 11 282 до 9857. Количество фельдшерских бригад, напротив, выросло на 1200.
Руками не трогать!
В Лиге пациентов с большой тревогой следят за новыми распоряжениями чиновников от медицины.
— Фельдшер — это скоропомощник. Он может разрулить ситуацию в острых случаях. Вообще-то говоря, его задача — доставить пациента к врачу, оказать помощь в острых состояниях. Для длинных забегов он не годится. К фельдшеру не могут предъявляться те же требования, что и к врачу. Он не может нести ответственность за выполнение клинических рекомендаций, стандартов, порядков. Это не его функция, — говорит президент «Лиги пациентов», член экспертного совета при правительстве Российской Федерации Александр Саверский.
По мнению Ларисы Попович, Минздрав действует из добрых побуждений. Чиновники пытаются сделать медицинскую помощь доступной любой ценой. Хотя у фельдшеров есть определенные профессиональные стандарты, которые помогут оценить важность и срочность помощи, но не более того:
— В определенных случаях они могут определять курс лечения, корректировать его. А на некоторые вещи с точки зрения непонятного диагноза они будут ориентироваться с помощью телеконсультаций, на что я очень рассчитываю, либо сами они не будут формировать тактику лечения, если это выходит за рамки их компетенции.
Как далека от жителей российской глубинки медицинская помощь, можно увидеть и в центре России. В 150 км от столицы, в деревне Мятлево Калужской области, есть амбулаторный пункт. Там работает один фельдшер. По словам местных жителей, ходят туда только старушки. Остальные предпочитают ездить либо в райцентр за 40 км, либо в Калугу.
Скорая помощь приезжает оттуда же. Жительница Мятлево Ирина рассказала «Новым Известиям», что недавно ее сыну стало плохо с сердцем в бане. Скорую вызвали сразу, но она не приехала ни через два, ни через три часа. Через четыре часа, когда молодой человек отлежался, позвонила бригада и поинтересовалась, надо ли ехать. Амбулаторный пункт в это время был уже давно закрыт.
Как говорит Лариса Попович, фельдшер — это все-таки лучше, чем соседка без медицинского образования. Это, конечно, верно, но странно рассуждать в таких категориях в XXI веке.
«Фельдшеру надо платить в два раза меньше»
В Кирове фельдшеры в межрайонных больницах получают очень скромные зарплаты.
На сайте Министерства здравоохранения Кировской области с февраля 2025 года висит объявление: в Быстряжский фельдшерско-акушерский пункт требуется заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер. Предлагаемая зарплата — 30 тысяч рублей. В конце объявления мелкими буквами написано, что министерство частично компенсирует аренду жилья, но какой размер компенсации, не уточняется.
У врачей предлагаемая зарплата в три-четыре раза отличается от фельдшерской. КОГБУЗ «Опаринская центральная районная больница» ищет участкового-педиатра на 120 тысяч рублей. Больница предоставляет служебное жилье. Правда, 120 тысяч предлагают не молодому специалисту, а с опытом работы от пяти лет и с высшей категорией. Если заполучить кого-то со студенческой скамьи, можно сильно сэкономить, не говоря уже о том, чтобы заместить всех врачей фельдшерами.
— Понимаете, что сейчас начнется? Последствием происходящего события, кто бы его ни защищал, будет повальный переход учреждений здравоохранения на работу фельдшеров. Просто потому, что за это надо платить в два раза меньше. Губернатор скажет: а чего это у тебя затраты в два раза больше? У тебя врачи работают? Да мне все равно, кто у тебя работает, бюджет режь, и все. Понимаете, что будет происходить? Это безумие! Катастрофа, — уверен Александр Саверский.
Если не фельдшеры, то кто? Молодые специалисты!
Приказ о штрафных санкциях против выпускников медвузов бюджетных отделений, которые отказываются отрабатывать в государственных поликлиниках и больницах по окончании учебы, давно обсуждается и в министерских стенах, и за ними.
Такие длительные дискуссии нетипичны для сегодняшней России. Сейчас начальство сначала действует, а потом остальные расхлебывают последствия преждевременных непродуманных решений. Ирония судьбы в том, что и подготовка к непопулярным мерам не улучшила картины жизни.
Ответственные за здравоохранение десятилетиями не могут решить одну и ту же задачу. Более трети молодых врачей, окончив дорогое обучение за счет бюджета, не работают в государственной или муниципальной системе здравоохранения. Выпускников колледжей, то есть фельдшеров и медсестер, еще больше — 40%, пишет «Коммерсант».
Поэтому, пообсуждав, сколько нужно брать с упрямых студентов, чтобы подвигнуть их отказаться от предложения частных клиник, и решив, что проблему ни однократной, ни даже двух- или трехкратной платой за полученное образование не решишь, светлые головы в Минздраве решили и вовсе лишать отказников аккредитации.
Власти действуют по принципу «Так не доставайся же ты никому!». Раз государственное здравоохранение не получит молодых специалистов, пусть страдают и частные клиники.
Между тем всем в стране известно, что по обязательной страховке много медицинских услуг не получишь, да и очереди в районных поликлиниках и больницах на месяцы. Теперь под страхом лишить молодых людей будущего их заставят исполнить клятву Гиппократа куда родина пошлет.
— Для того чтобы стать врачом, нужна очень большая практика после выпуска. И получить ее можно, общаясь с больными. Мало того, за те три года, которые предполагаются, человек поймет, правильно ли он выбрал профессию, — перечисляет положительные стороны отработки Лариса Попович.
Формирование системы здравоохранения для бедных и богатых
— Эта ситуация возникла не на ровном месте. У нас врачи уходят в частную медицину и вообще из медицины. Период, когда ими разбрасывались, главный врач орал на подчиненных, те просто тупо уходили, он закончился тем, что есть. Включая низкие зарплаты, которые были. Поэтому, пока частный сектор будет вытягивать из населения деньги, все так и будет происходить, — считает Александр Саверский.
Штрафы и принуждение к отработке не улучшат качества и не увеличат количества медицинских услуг в госсекторе. Просто сейчас завершается формирование двойных стандартов в самой гуманной из отраслей экономики. Выводы также очевидны:
Заплатить 700 тысяч в год за обучение дети из бедных семей не могут ни при каких обстоятельствах. Таких денег в российских домохозяйствах при всей нашей любви к чадам в массовом порядке нет. Богатые будут лечить богатых.
Выходцы из малообеспеченных провинциальных слоев пойдут на бюджетные места, заранее зная, что работать им придется долго, много, трудно и на две-три ставки за копейки. Они становятся крепостными не только во время учебы, но и на старте карьеры.
Конечно, будут из них и Ломоносовы, и такие, кто захочет во что бы то ни стало вырваться из оков бедности и уехать в «Москву, в Москву». Но абсолютное большинство останется при своих идеалах, но без денег.
Если рассматривать ситуацию непредвзято, становится понятно, что каждый год стране не хватает 35% выпускников медвузов. Ведь бывшие студенты уходят не в никуда, а в платные медицинские учреждения, как и 40% выпускников колледжей.
Минздраву нужно подумать над тем, как увеличить количество мест в медицинских университетах. Ведь треть выпускников — это те самые врачи, которых не хватает на местах. Ну и главный вопрос — необходимо немедленно повышать зарплату врачам и медперсоналу в государственной системе. Ситуация, когда специалист, потративший десять лет своей жизни на учебу, получает меньше водителя такси, невыносима. Глядишь, тогда и частные клиники начнут снижать расценки для населения, если предложение в муниципальной системе улучшится. Медицина — это тоже услуги, и здесь действуют такие же принципы экономики.
Аракчеевщина от медицины в стране со стареющим населением ничего общего с планированием будущего не имеет.
Елена Петрова, Татьяна Свиридова
источник : https://newizv.ru